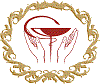Оказывается, и такое возможно… Человек удивительно спокойного нрава, безупречно вежливый и доброжелательный, невозмутимый в любой сложной ситуации и вдруг – едет на войну добровольцем. Почему? Зачем? Затем, говорит, что по-другому нельзя.

Знакомьтесь: заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии терапевтического профиля Новосибирской областной больницы, кандидат медицинских наук Максим Равильевич Шамсеев.
Вы из семьи военного врача. Значит ли, что выбор профессии был заложен в вас «генетически»?
Действительно, занятие медициной у нас семейное. Разве что мой отец имел звание подполковника медицинской службы и работал в военном госпитале, а я лишь лейтенант и работаю в гражданской больнице. К тому же его врачебная специальность рентгенология, а моя – реаниматология. Сколько помню себя, хотел стать врачом, как отец. Только профиль выбрал другой. Точнее, это он меня выбрал.
Дело было так. Я отучился полгода на первом курсе, и папа с присущей ему военной строгостью сказал: «Сын, ты уже взрослый, устраивайся на работу, зарабатывай деньги хотя бы на проезд и на книги». И я устроился туда, куда брали студентов первого курса – санитаром в отделение реанимации. Постепенно «дорос» до медбрата, а к окончанию института уже видел себя анестезиологом-реаниматологом.
По-вашему, это самая интересная из врачебных специальностей?
Правильнее сказать – самая важная. Анестезиолог-реаниматолог всегда находится в центре лечебного процесса. Ни терапия, ни хирургия, ни акушерство-гинекология без помощи анестезиологов-реаниматологов обойтись не могут, и это ко многому обязывает. Когда пациент, которого лечили доктора других профилей, попадает в отделение реанимации, они смотрят на тебя с надеждой – вытянешь или нет? Коллеги сделали всё от них зависящее, теперь уповают на тебя.
А вас такая гипер-ответственность не пугает?
Нет, наоборот. Я уже испытываю зависимость от чувства гипер-ответственности, не могу без этих переживаний.
Правильно ли я понимаю, что для каждого раздела медицины у реаниматолога должен быть свой набор знаний? Или существуют универсальные технологии на все случаи, не важно, лечите ли вы новорождённого, пациента с инсультом или онкобольного?
Есть, конечно же, универсальный набор знаний, потому что критическое состояние в большинстве ситуаций имеет закономерную динамику. При этом у меня должны быть и знания по каждой узкой врачебной специальности. Я никогда не буду претендовать на то, что знаю терапию лучше терапевта, а хирургию лучше хирурга, однако как анестезиолог-реаниматолог на консилиуме буду твёрдо отстаивать собственную точку зрения, можно этого больного оперировать или нельзя, выдержит ли он операцию.
Вы когда-нибудь испытывали досаду от того, что спасённые вами пациенты не знают своих реаниматологов?
По молодости такая мысль бывает, наверное, у каждого врача нашего профиля. Но я давно себе всё объяснил, и в этом плане на стороне пациента. Поясню, почему.
Человек, который попадает в реанимацию, изначально испытывает неловкость и даже унижение от того, что его раздевают догола, ему ставят катетер в мочевой пузырь, дают кислородную маску, что сразу же ставит его в подчинённое положение. Теперь он полностью зависит от того, что будут делать врач и медсестра. При этом чувство неловкости, которое испытывает пациент, никого не интересует, так как у нас задача другая – мы занимаемся спасением его жизни.
Понятно, что, когда человек высвобождается из столь непростого положения, его переводят из реанимации в профильное отделение, он подсознательно пытается забыть всё, что с ним происходило. И лицо реаниматолога, и его имя он забудет сразу же. Это нормальная реакция человеческой психики, с нашей стороны глупо обижаться.
Вообще я не люблю задерживать пациентов в реанимации. Оставаться в палате интенсивной терапии дольше необходимого плохо для человека, в этих условиях ему психологически очень сложно.
Как получилось, что вы – человек на редкость уравновешенный, мирный – в первые же месяцы СВО отправились туда врачом-добровольцем, а в общей сложности уже дважды побывали в зоне боевых действий?
Хочу и в третий раз поехать, если отпустят с работы. Характер тут ни при чём, просто у меня твёрдая гражданская позиция на этот счёт. И первая же командировка подтвердила, что эта позиция правильная. Когда видишь свастику, которой противник разрисовал дома в зоне боёв, становится раз и навсегда ясно, с кем мы имеем дело.
До первой поездки у вас было представление о том, что такое военная медицина, или вы всё постигали на месте?
Кое-что знал теоретически от отца, а после института ещё и подрабатывал в военном госпитале.
Военные – очень хорошие организаторы здравоохранения, неплохие клиницисты. Как только я впервые приехал в Луганскую область, стал работать вместе с ними в операционной, давал наркозы, затем вёл прооперированных пациентов в палате реанимации.
В первую командировку фронт находился близко от того населённого пункта, где я работал. Были прорывы диверсионно-разведывательных групп недалеко от нас, прилетали дроны. На тот момент ещё не был развернут отдельный военный госпиталь, всех привозили в районную больницу, так что мы оказывали помощь и гражданским с «обычными» заболеваниями, и военным с огнестрельными и минно-взрывными ранениями.
Вряд ли до этого вам приходилось видеть пациента, у которого миной разворочена вся брюшная полость, или осколок торчит из области сердца. Насколько пугающей оказалась для вас такая картина?
Пугающей точно нет. Система подготовки врача, которую я проходил в мединституте, была нацелена на оказание помощи при любых, даже самых жутких вариантах травм и ранений. И никого эмоционального шока ты в этот момент выдать не должен. Просто берёшь себя в руки и делаешь свою работу.
Когда Вы учились в мединституте, ещё были военные кафедры?
Да, были. Мы изучали военно-полевую хирургию, военно-полевую терапию, принципы сортировки раненых, их маршрутизацию. А по окончании института получали звание лейтенанта запаса.
По моему мнению, нужно вернуть в медицинские вузы военные кафедры. Было огромной ошибкой их закрыть. Вот один пример: мы изучали на «военке» токсикологию, то есть свойства раздражающих ядов, как орудия массового поражения. Нет гарантии, что завтра какому-нибудь безумцу не придёт в голову использовать такие вещества в условиях современной войны. Что делать в этом случае? Молодые врачи, скорее всего, не знают. А я и мои ровесники постараемся вспомнить, мы это изучали.
В человеческом плане командировки на войну вас как-то изменили?
Да, изменили. Я стал ещё более собранным, уверенным в себе, психологически крепким. Ну а когда ты получаешь наглядное подтверждение в своей идейной правоте, в правоте нашей страны по проведению специальной военной операции, это даёт много сил. Помните мои слова про свастику, которой были расписаны дома в городах и сёлах Донбасса?..
А в профессиональном плане вы получили какие-то новые знания и опыт?
Безусловно. Поскольку в регионах ДРН и ЛНР по-прежнему острая потребность во врачах разных специальностей, приходилось иной раз оказываться совсем в новой для себя роли. Очень многие медики с этих территорий, к сожалению, уехали на Украину. Когда наши войска заняли тот населённый пункт, куда меня командировали, в многопрофильной межрайонной больнице осталось всего шесть врачей и на поликлинику, и на стационар. Так что приходилось непросто.
Вот один пример. Привезли беременную женщину, которую в Кременной после наступления наших войск бойцы вытащили из подвала жилого дома. Страшно представить, что с ней было бы ещё сутки спустя, потому что у неё начались роды. Акушер среди нас был, но не было ни неонатолога, ни педиатра, ни детского реаниматолога. Мне пришлось взять на себя эти функции, ведь времени ждать-искать не оставалось. В итоге мы с коллегами приняли роды, но ребёнок родился с очень низким показателем по шкале Апгар, практически неживой. До этого я никогда не занимался акушерской анестезиологией, однако от страха моментально вспомнил то, что когда-то читал в учебниках, включая реанимацию новорождённых, и сумел реанимировать малыша. Всё закончилось хорошо.
Потом я спрашивал эту женщину, почему она не уехала из зоны боевых действий, когда все уезжали. Она призналась, что ехать на Украину принципиально отказалась, хотела остаться в России, поэтому ждала, когда фронт перекатится через её дом. К счастью, наши оказались на месте как раз вовремя.
Максим Равильевич, признайтесь: хорошо, что эти командировки случились в вашей жизни, или лучше бы вы ничего не знали о современной войне?
Вот если бы я этого не узнал, было бы плохо. Зато, когда я там побывал, получил огромный положительный опыт, который формирует меня и как человека, и как специалиста.